Жан Ануй - Томас Бекет [=Бекет, или Честь Божья]
Папа. Нет, я не согласен, Замбелли! Совершенно не согласен. «Комбинадзионне» — неудачная. Мы потеряем честь из-за трех тысяч серебряных марок.
Кардинал. Ваше святейшество, речь идет не о том, чтобы потерять честь, а о том, чтобы получить деньги от английского короля и выиграть время. Потерять эти деньги, сразу дав отрицательный ответ, не устроит ни дел папской курии, ни дел Томаса Бекета и — боюсь — даже высших интересов нашей церкви. Получить деньги — согласен, сумма чрезвычайно мала; но тем не менее принять ее — это значит сделать жест умиротворения в интересах мира во всей Европе. А это всегда было главнейшей заботой святого престола.
Папа (озабоченно). Если я возьму деньги от короля, я не смогу принять архиепископа, который уже месяц дожидается в Риме аудиенции.
Кардинал. Примите и деньги, ваше святейшество, и архиепископа. Одно искупит другое. Деньги устранят пагубные последствия аудиенции, данной архиепископу; с другой стороны, если вы примете архиепископа, будет не так унизительно взять деньги.
Папа (нахмурясь). Не желаю его принимать. Говорят, он человек искренний. Такие люди сбивают меня с толку. После них во рту остается привкус горечи.
Кардинал. Искренность — такой же расчет, как и все другое, ваше святейшество. Если проникнуться этим принципом, тогда никакая искренность вас не собьет с толку. При очень сложных переговорах, когда дело не двигалось вперед и маневр не удавался, мне приходилось прибегать к этому приему. Обычно противник попадался в ловушку: он придумывал какой-нибудь необыкновенно тонкий план, делал ложный шаг, и западня захлопывалась. Опаснее, когда ваш противник начинает играть в искренность одновременно с вами. Тогда игра так запутывается, что ужас.
Папа. А знаете, почему он так упорно добивается нашей аудиенции, протоптавшись месяц в моей передней?
Кардинал. Нет, ваше святейшество!
Папа (с нетерпеливым жестом). Замбелли! Не хитрите со мной! Вы же сами мне об этом рассказали.
Кардинал (спохватывается). Простите, ваше святейшество, я совсем забыл. Или, вернее, поскольку вы меня спросили об этом, я решил, что вы сами забыли, и совершенно случайно…
Папа (раздраженно). Если уж мы между собой пустимся на разные ненужные хитрости, мы совсем запутаемся!
Кардинал (сконфуженно). Просто рефлекс, ваше святейшество. Простите великодушно.
Папа. Бекет хочет просить меня, чтобы я лишил его сана архиепископа примаса, вот для чего он в Риме! А знаете, почему он просит об этом?
Кардинал (раз в жизни — откровенно). Да, ваше святейшество!
Папа (раздраженно). Нет, монсеньер, вы этого не знаете! Это сказал мне ваш враг — Рапалло!
Кардинал (скромно). Верно, но я тоже знал, потому что держу при Рапалло своего шпиона.
Папа (подмигивая). Кюлограти?
Кардинал. Нет. Один только Рапалло считает, что Кюлограти мой шпион. Я приставил шпиона к Кюлограти и получаю все сведения через него.
Папа (прерывает его жестом). Бекет утверждает, что выборы в Кларендоне не были свободными, что он обязан своим назначением лишь капризу короля и что поэтому честь господня, поборником коей он себя теперь считает, не позволяет ему носить этот узурпированный титул. Он хочет быть простым священником!
Кардинал (после небольшого раздумья). В этом человеке бездна честолюбия.
Папа. Однако он знает, что мы знаем, что только его титул и сан — его единственная защита от королевского гнева. Я не дам ни гроша за его шкуру, где бы он ни находился, если он не будет архиепископом!
Кардинал (глубокомысленно). Он ведет тонкую игру. Но мы сильнее, потому что не знаем точно, чего мы хотим. А полная неопределенность намерений дает удивительную свободу маневрирования. (Секунда размышления. Потом внезапно восклицает.) У меня появилась идея, новая «комбинадзионне», ваше святейшество! Пусть ваше святейшество притворится, что верит в мучения его совести. Пусть примет Бекета, сложит с него титул и сан архиепископа примаса, а потом сразу же, дабы вознаградить его за усердие в защите английской церкви, вновь назначит его архиепископом, на сей раз — по всей форме, как и полагается. Таким образом, мы отводим угрозу, выигрываем очко у Бекета и другое у короля!
Папа. Игра слишком опасна. У английского короля длинные руки!
Кардинал. В данный момент не длиннее, чем у короля Франции, которому сейчас выгодно покровительствовать Бекету. Наша политика должна состоять в том, чтобы все время проверять, чьи же руки длиннее. К тому же мы можем действовать тайно. Пошлем английскому двору секретные письма о том, что это новое назначение — простая формальность и что мы не утвердили отлучений от церкви, провозглашенных Бекетом, а с другой стороны, уведомим Бекета о существовании этих секретных писем и попросим держать их в секрете и считать недействительными.
Папа (вконец запутавшись). Тогда, может быть, нет смысла делать их секретными?
Кардинал. Нет, есть. Потому что тогда мы сможем держаться с каждым так, будто другой не знает содержания писем, конечно, приняв вое меры к тому, чтобы содержание стало известно обоим. Главное, чтобы они не знали, что мы знаем, что они знают. Это и ребенку ясно.
Папа. Но что нам делать с Бекетом, будет он архиепископом или нет?
Кардинал (беспечно махнув рукой). Мы его пошлем в монастырь! Во французский, поскольку ему покровительствует король Людовик, например, в обитель цистерианцев в Понтиньи. Там очень жесткий устав. Явно пойдет на пользу этому бывшему денди. Пускай поучится в бедности быть утешителем бедных.
Папа (улыбается). Совет, по-моему, хорош, Замбелли. Черствый хлеб, вода и ночные бдения — прекрасное лекарство против искренности. (Задумывается, после молчания.) Единственное, чего я не понимаю, Замбелли, какая вам выгода в том, чтобы давать мне хороший совет?
Кардинал притворяется, что он растерян. Часть декорации возвращается за кулисы так же, как и появилась. Занавес поднимается, открывая в середине сцены маленькую голую келью. Бекет молится перед простым деревянным распятием. Скорчившись в углу, монашек забавляется, играя ножом.
Бекет. В общем, это было бы просто. Может быть, слишком просто. Святость ведь тоже искушение. Ах, господи, до чего же трудно получить от тебя ответ! Я много молился, но я не верю, что люди, более достойные, которые уже давно вопрошают тебя, научились лучше разгадывать твои истинные намерения. Я только ученик, новичок, и мне приходится примирять противоречия, как в пору первых латинских переводов: помнится, старик священник немало смеялся над моими фантазиями! Но не могу же я верить в то, что твой язык изучают столь же прилежно, как любой человеческий, что в нем тоже существуют словарь, грамматика, особые обороты речи. Я убежден, что когда какой-нибудь закоренелый грешник впервые падает на колени и, потрясенный, шепчет твое имя, ты тут же отвечаешь, и он понимает тебя.
Я пришел к тебе, как дилетант, и удивился, что обрел в этом еще и радость. Поэтому-то я долгое время остерегался, я не мог поверить в то, что могу приблизиться к тебе хотя бы на шаг. Не мог поверить, что путь этот дарует счастье. Их власяницы, посты, ночные бдения на ледяных церковных плитах, когда смятенные забитые человеческие существа взывают к тебе, — все это представлялось мне лишь предосторожностями слабого. А теперь мне кажется, будто и в могуществе и в роскоши, даже в плотских наслаждениях я не переставал говорить с тобой. Ведь ты также — бог богатых, счастливых людей, и в этом, господь, ты проявил глубочайшую свою справедливость. Ты никогда не отвращал взгляда от того, кто имел все с момента рождения. Ты не бросал его в одиночестве, его, попавшего в сети житейских благ. И, быть может, именно такой человек и есть твоя заблудшая овца… Бедняки и калеки имеют перед ним слишком много преимуществ, обогнали его, так сказать, в самом начале пути. Они и так полны тобой. Ты принадлежишь им всецело, и залогом является их нищета. Но иногда мне чудится, что их высокомерные головы склонятся еще ниже в день Страшного суда, чем головы богачей. Ибо твой высший порядок, который мы ошибочно зовем справедливостью, таинствен и глубок, и ты столь же скрупулезно исследуешь их худосочные зады, как и зады королей. И среди всех этих различий, ослепляющих нас, а для тебя незаметных, ты обнаруживаешь под короной или под коркой грязи все ту же гордыню, то же тщеславие, те же ничтожные, самодовольные заботы о себе. Господи, сейчас я уверен, что ты хотел соблазнить меня этой власяницей, — которая многим служит еще одним поводом для глупого тщеславия, — голой кельей, одиночеством, зимним холодом, так просто переносимым, привычной молитвой, несущей успокоение. Было бы чересчур легко для тебя покупать за такую дешевую цену. Я ухожу из монастыря, где ты окружен столькими предосторожностями. Я опять надену митру и золотую ризу, возьму в руки серебряное распятие тонкой чеканки. Я вернусь опять на свое место и буду бороться тем оружием, которое тебе угодно было вложить мне в руки.
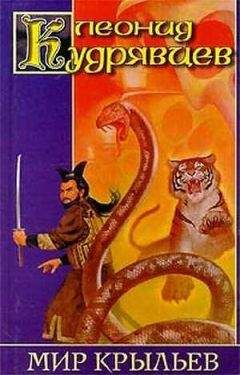
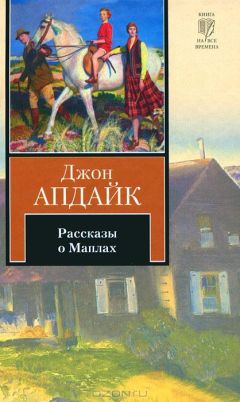
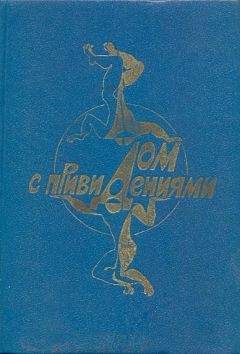
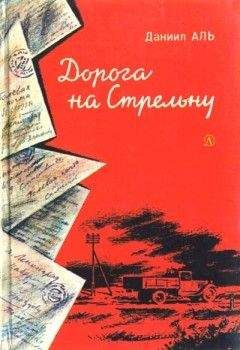
![Василий Головачев - Ультиматум [сборник]](/uploads/posts/books/103752/103752.jpg)